Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 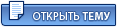 |
| Александр Вакуров |
 27.9.2012, 18:48 27.9.2012, 18:48
Сообщение
#1
|
 Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 |
Уже ДВАДЦАТЬ ЛЕТ я не могу получить от мира и от людей ответ на вопрос о разнице между СМЫСЛОМ и ЗНАЧЕНИЕМ.
Уже отчаялся. В справочниках написана такая чушь, что противно и страшно вдумываться в тот текст. Задал вопрос друзьям в Твиттере, прислали ссылку. Честно говоря, я все равно ничего не понял. Но для памяти размещаю этот текст здесь. Автор Богин Г.И. Название Обретение способности понимать: Введение в герменевтику Год издания 2001 Раздел Книги Обсудить книгу на форуме http://www.sbiblio.com/forum/ Обретение способности понимать: Введение в герменевтику Содержание Введение Часть I. Субстанциальная сторона понимания текста Глава 1. Проблема субстанциальности понимания Глава 2. Основные составляющие субстанции понимания Глава 3. Из опыта классного чтения, ориентированного на субстанциальность понимания Часть II. Усмотрение содержаний и смыслов при понимании текста Глава 1. Место содержаний в понимаемом материале Глава 2. Сущность и происхождение смыслов Глава 3. Смыслы среди других идеальных реальностей Глава 4. Смысловое богатство текста Глава 5. Возможные классификации смыслов Глава 6. Мир смыслов и метасмыслов как пространство значащих переживаний Часть III. Процессуальная сторона понимания текста Глава 1. Типология понимания текста Глава 2. Деятельность языковой личности при разных типах понимания Глава 3. Схемы действования в процессе понимания Глава 4. Характеристики схемообразования в процессе понимания Глава 5. Схемообразование как аспект действования понимающего субъекта Глава 6. Процессуальная сторона разных типов понимания Глава 7. Когнитивное понимание как процесс Глава 8. Распредмечивающее понимание как процесс Часть IV. Определение способа чтения в конкретных герменевтических ситуациях раздел первый: экспектация и индивидуация - взаимосвязанные техники понимания текста Глава 1. Экспектация как одна из техник понимания Глава 2. Индивидуация дроби текста как одна из техник понимания Раздел второй: Способы действования при индивидуации дроби текста Глава 1. Подведение под известный жанр Глава 2. Соотнесение индивидуации с типологией текста Глава 3. Индивидуация по типу соотнесенности смысла и формы Глава 4. Индивидуация по способу усмотрения образа автора Глава 5. Индивидуация по способу развертывания динамической схемы смыслообразования Глава 6. Мозаика фиксаций рефлексии как один из критериев индивидуации Литература Список научных публикаций Г.И.Богина. Библиография Далее - выдержка. |
| Александр Вакуров |
 27.9.2012, 18:48 27.9.2012, 18:48
Сообщение
#2
|
 Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 |
Цитата Глава II. Основные составляющие субстанции понимания
Два мира есть у человека: Один - который нас творил, Другой - который мы от века Творим по мере наших сил. Н. Заболоцкий. На закате 1. Содержания и смыслы Существенный вопрос " Из чего строится обогащающая субъективность человека, его "душа"?" - непременное условие субстанциальности понимания. Отсюда - и проблема типологии единиц действования при понимании. Строя эту типологию, наука может построить и представление о совокупности всех вообще смыслов и средств их опредмечивания в тексте как о духовном содержании данной эпохи, культуры, нации, автора, индивида. Составляющие субстанции понимания - это ценности , и упорядоченное представление о составляющих есть знание о системе ценностей, а главное - о рациональных путях использования и всей системы, и отдельных ценностей. Например, становится возможным решать такие вопросы: К каким разделам субстанции применимы следующие типы понимания и их комбинации: семантизирующее, когнитивное, распредмечивающее. Применительно к какому типу субстанции применима такая-то, а не другая мозаика фиксаций рефлексии в схеме СМД (по Щедровицкому). Какой материал понимания имеет такую-то, а не другую тенденцию распадаться на грани понимаемого; как следует осваивать эти грани применительно к разным разделам субстанции понимания. Как возникают трудности понимания и случаи глухого непонимания при встрече человека с тем или иным разделом субстанции понимания. Как избираются, варьируются и сочетаются техники понимания применительно к разным разделам субстанции. Как в принципе разворачивается процессуальная сторона понимания при наличии того или иного типа или раздела субстанции. Какие модификации вносятся в интерпретацию при встрече с тем или иным типом или разделом субстанции, а именно: что искать и (другая сторона дела) как, когда, где искать это [ Burke 1957:57]. Как отбирать субстанциальный материал при обучении - формировании понимающего человека. Как продуцент модифицирует материал ради того, чтобы решались задачи 1-8; иначе говоря, вся поэтика, риторика, психология творчества оказываются предметами интереса герменевтики, коль скоро герменевтика занимается проблемами, связанными с субстанциальностью понимания и ее составляющими. Исходный пункт при решении каждого из девяти вопросов - это ситуация непонимания, ситуация неуспешности, ситуация нерешенности вопроса о субстанциальной стороне понимания [ Schleiermacher 1974:82]. Пока не решен вопрос о том, из чего состоят схемы действования при понимании, о качественно специфичных компонентах состава, перечисленные вопросы, важные для практической позиции педагога, организатора, филолога и пр., не поддаются разрешению. Схемы действования читателя при понимании текста - это пучки нитей содержательностей, растягиваемые в ходе рецепции. Одновременно растягивается несколько смыслов, наращивается несколько содержаний, происходит категоризация растянутого и нарощенного, но растягивание и наращивание не прекращаются; поэтому схему можно усмотреть только на синхронном срезе, сделанном поперек всех нитей в определенный момент. В "Отце Сергии" одновременно разворачиваются содержания (герой становится все более прославленным; герой становится все более аскетичным; герой все больше отдаляется от всего земного) и несходные с ними смыслы, опредмеченные как средствами текстопостроения, так и средствами, образующими содержание. Усмотрение содержаний переплетено с усмотрением и построением смыслов, буквально перечеркивающих многие содержания. Так, на пути к своей "святости" отец Сергий "дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба один раз в неделю. Все то, что приносили ему, он раздавал бедным, приходившим к нему. Все время свое отец Сергий проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых становилось все больше и больше. Выходил отец Сергий только в церковь раза три в год, и за водой, и за дровами, когда была в том нужда". Мужицкое платье - признак этой "святости", а поистине - славы земной, предполагающей беседы со множеством искателей спасения и выходы за дровами и за водой в мужицком платье. И волосы обстригаются не просто человеческие, но специально длинные, передающие статус монашества. И вот он в мужицкой рубахе, портках, кафтане и шапке выходит к реке. Но ведь вся эта одежда была припасена давно, тогда "он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет <…> Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо: оставаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла, он привык и покорился дьяволу, и одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства". Внутритекстовая рефлексия над этим эпизодом далее растягивает метасмысл "величие ухода от славы земной", поскольку в этот метасмысл входит еще одна ноэма - "дьявольское происхождение славы земной (ложной святости)". Все единицы оказываются "контекстными ключами» в поисках содержательности (единства смысла и содержания), т.е. происходит то же, что в риторике: все единицы текста оказываются не только риторически, но и герменевтически релевантными . При этом средства прямой номинации не имеют никаких преимуществ сравнительно с импликациями, метафоризациями и другими непрямыми средствами: "Не столько ключи к разгадке, сколько намеки ( cues rather than clues ) лежат в основе понимания" [ Peters 1974:395]. Эти "намеки" имеют характер смыслов и средств, метасмыслов, метасредств и метасвязей. Их необходимо представлять всякому, кто хочет улучшить понимание и интерпретацию. В этом и следует видеть решение проблемы состава субстанции . Первой составляющей субстанции понимания традиционно считается содержание . Выход к дискурсу начинается с предикации - будь то предикативная связь типа "Область Войска Донского охватывала часть современной Ростовской области" (1) или "Роман "Тихий Дон" - это книга о судьбе крестьянского Гамлета" (2). По отношению к предикации (2) речение "Григорий Мелехов, персонаж "Тихого Дона", был казак" перестает быть предикацией и превращается в пресуппозицию. Очевидно, мы имеем разные степени предицирования , разные меры новизны предикаций, разную имитируемость предикаций и проч. Все эти свойства предикаций зависят от более высокой структурной единицы текстопостроения - от пропозиции. Содержание состоит из предикаций в рамках пропозиций. Оно, разумеется, никак не исчерпывает субстанции понимания и понимаемого. Начальное предложение "Тихого Дона" "Мелеховский двор на самом краю хутора." как объект понимания не состоит из "знания о том, где находится этот двор", равно как и из "знания того, что такое двор". Разумеется, эти предикации тоже как-то присутствуют - как предметы семантизирующего и когнитивного понимания, но не как объект понимания субстанциального, т.е. понимания целостности. Объект связан и с таким метасмыслом, как "интерес и любовь писателя к родному краю", и с таким метасмыслом, как "грозные предвестья", и с таким метасредством, как образ автора, его место в тексте, и с интерсубъективностью тех, кто уже схватил эти смыслы и средства. То, с чем связан объект понимания, и образует пучок растягивающихся нитей, сечение которого в любом месте и образует схему действования. Чем выше образование человека, тем сильнее его стремление к категоризации содержаний. Экспериментально установлено, что когда студентов просят группировать рассказы по сюжету, они сразу находят более высокие критерии на уровне "темы". Например, критерием группировки оказывается не "соревнование и новое решение", а "соревнование и воздаяние". При просьбе написать что-нибудь "на данный сюжет" вводят не сюжет, а метасредство "конфигурация единиц сюжета" [ Reiser 1985]. Разница между заданием и его выполнением очень велика: просят, например, написать нечто на сюжет приключений отца Сергия, а получают историю вовсе не про монаха, а про председателя колхоза, который возомнил, что именно он нашел новые формы человеческих отношений, а потом повесился, поняв десятилетнюю убыточность своего сельхозпредприятия. Вот это лженахождение и последующее "раскаяние" могут показаться смыслами, хотя это типичные содержания, типичные следы предицирования. Содержания - предусловия смыслов в бесконечном множестве случаев. "Варя - хорошая девочка, во многом достойная подражания" как бы присутствует и в речении "Такие, как Варька… Такие, как Варька… Если бы все были как Варька!" Последнее вносит пучок этических, риторических и провиденциальных коннотаций. Как отмечает А.А. Брудный [Брудный 1986:61], содержание явно , это "объявленный концепт" - как в басне. Соответственно, этот концепт легко воспроизвести. Смысл же надо восстановить или построить, а вовсе не просто произвести. Это дается намного труднее, даже если смысл объявлен, номинирован в тексте. Переход от содержания к смыслу составляет главную трудность при преодолении универсализации, обращенной на семантизирующее и особенно когнитивное понимание. В связи с последним замечанием вновь возникает вопрос об универсализациях. Если универсализация познания в ущерб пониманию представляется нежелательной, но верно и обратное: нельзя везде выдвигать только понимание, где-то нужно и собственно познание. Для "только понимания" материал должен "огораживаться" (С.Л. Содин). Так, про войны 1789-1815 гг. можно узнавать, но можно и познавать как конструкт "войны, возникающие из буржуазных революций, войны передовой буржуазии". Но, например, испанскую и русскую кампании Наполеона можно освоить, только понимая способы мыследействования Наполеона и еще некоторых не очень многочисленных людей. Вот этот раздел материала и должен "огораживаться" специально для понимания. Таких "огораживаний" бывает много, особенно при решении следующих задач: 1. Преодоление нарушений размерности культуры (термин С.Л. Содина). Например, в действительности Чехов писал "Вишневый сад" пародируя ремесленную пьесу В.А. Дьяченко "Пробный камень" [Дьяченко 1892], а Станиславский и последующие постановщики ставили "Вишневый сад" как трагедию: понимание предполагает усмотрение также и того смысла, который вкладывал Чехов в эту комедию, построенную как паноптикум пошлостей радикальных, либеральных, консервативных, сексуальных, теоретико-экономических и проч. Хотя конечная цель преодоления нарушений размерности культуры есть выход к некоторому смыслу, все же при достижении этой цели возникает работа именно с содержанием, т.е. с нахождением предикации типа "Эта пьеса - комедия, а не трагедия". Понимание замирает в содержательном знании, в то время как при встрече с переживаемыми смыслами целью является по преимуществу само осмысленное (значащее) переживание. Иначе говоря, при когнитивном понимании чередуются понимание и познание, при распредмечивающем понимании преобладает собственно понимание. Видимо, здесь и лежит граница между субстанциями -пониманием и знанием. 2. Выход из положения при разрыве культурно-исторического движения (термин С.Л. Содина). Например, первая строфа "Евгения Онегина" представляет значительные трудности для освоения как смысла, так и содержания. Отчасти это связано с тем, что Пушкин пародировал здесь ситуацию из романа Мэчьюрина "Мельмот-скиталец", где черти действительно забирали дядю героя. У Пушкина: Вздыхать и думать про себя: "Когда же черт возьмет тебя?" Английский роман в переводе был хорошо знаком русской публике 1820-х гг., но впоследствии он потерял известность, что и привело к разрыву в культурно-историческом движении. Преодоление разрыва - когнитивное понимание, дающее знание, т.е. содержание: "Это упоминание чертей, уволакивающих дядю, - дань моде на английский роман и одновременно ирония по поводу этой моды или пародия на ситуацию, представленную в этом романе". Так или иначе, мы видим, что содержание как конструкт деятельности реципиента принадлежит в той или иной мере и субстанции знания, и субстанции понимания. Содержание не "превращается" в смысл. Смысл может выступать как предмет прямой номинации в тех или иных содержательных предикациях, где он или осмысленное переживание получают "языковое выражение", т.е. название. Важнейшая составляющая субстанции понимания есть смысл. Смысл - одна из организованностей рефлексии, а совокупность всех доступных человеку смыслов есть картина наполнения схемы СМД (по Г.П. Щедровицкому). Вкупе с содержанием смысл образует весь состав интеллектуальных актов - содержательность. Тем не менее смысл как особый, отличающийся от содержания, значения и многого другого конструкт пока еще недооценивается в научной литературе, где до сих пор имеет место архилексематическое употребление слова "смысл" ( Sinn , sense , sens ) для обозначения разнообразных конструктов: референта, значения, полисемии, содержания, художественной идеи, нового в содержании, нового в смысле, метасмысла, метаметасмысла (металогизма типа "трагическое") и т.п. Понятие "смысл" складывалось довольно долго и сложно. Видимо, отсчет надо начинать с того момента, когда Лютер ввел представление об Einfuhlung . В 1670 г. в "Богословском трактате" Спинозы Библия берется впервые как текст, написанный кем-то с определенной установкой. Отсюда - понятие смысла как объективной претензии речевого акта на истинность в данном контексте. С этого времени основной задачей герменевтики считается поиск смысла. В ХХ в. стало окончательно ясно, что изучать смыслы - это и значит "изучать мышление": "Единственной альтернативой исследованию мышления, основанному на самонаблюдении, является анализ всех тех материальных форм, в которых мысль объективирована и представлена в виде смысла". К этим формам относятся не только тексты, но и поведенческие акты, и исторические события, "которые тоже имеют определенный смысл", но все же именно вербальные тексты здесь наиболее характерны. Именно вербальные смыслы приводят к тому, что "сознание в целом имеет смысловое строение» [Выготский 1982:163]. Человек "как lumen naturale порождает смысл во всем, что он делает… Он - смыслонаделяющая предметность" [ Kockelmans 1970:99]. Бравирование установками позитивизма привело к недооценке как смысла, так и содержательности принимаемого в целом, отсюда - недооценка понимания при переоценке позитивного знания. Уже в 1707 г. Феофан Прокопович писал, что "универсальное не только не может существовать вне единичных вещей, но и в единичном интеллекте [Стратий 1982:213], т.е. уже к началу XVIII в. было очевидно, что чем выше категоризация смысла, тем выше и вероятность разделенности этого категоризованного смысла между множеством людей в сообществе . Именно поэтому тексты с высокой содержательностью имеют общественную, а не только личностную значимость для реципиента. "Объективность", не-индивидность смыслов отмечают многие авторы [ Weier 1970:549]. Отношение к тому или иному смыслу как к ценности различно у многих людей, но сам смысл мало зависит от индивидуальных различий реципиентов в рамках сообщества. Семантический дифференциал (смысл, выводимый из оценочного отношения), исчисляемый по методике Чарлза Осгуда, дает во всех экспериментах сходные параметры для членов сообщества, коль скоро рассматривается слово типа pride , sadness [ Dershowitz 1975]. Вообще смысл - не нечто такое, что может быть только у одного: смысл с самого начала своего складывания, образования может быть только у многих и между многими. В качестве составляющей смысла фигурирует важный конструкт - значащее переживание. Во-первых , при пробуждении рефлексии и рефлективной реальности происходит реактивация следов значащих переживаний, поскольку эти следы составляют часть наличного опыта. Бегство отца Сергия из монастыря напоминает нам о нашем или чьем-то еще переживании страха возмездия за другую вину в других обстоятельствах. Во-вторых , сам складывающийся смысл переживается. Смысл "ответственность за дела своей жизни" именно больше переживается, чем номинируется большинством реципиентов текста Толстого. Существенно, что и первый, и второй случаи, в свою очередь, делятся на случай единства переживания и смысла и на случай отдельности переживания и смысла. Вообще онтология значащих переживаний такова: Существенно, что весь материал смыслов и даже метасмыслов способен складываться без осознания и выступать как бессознательное. Бессознательное - одна из ипостасей смысла, причем необходимая при освоении содержательности художественных текстов: читая и понимая "Отца Сергия", мы никак обычно не формулируем смыслов. Когда мы видим фильм Глеба Панфилова "Мать" (по Горькому), мы не формулируем для своего сознания и осознания метаметасмысл -художественную идею "Слепота и глухота как регулятор всех действий восставших, их палачей, их друзей, их врагов, их правителей, их преемников", мы "просто" видим глухих агентов тайной полиции и слепых посетителей политических процессов, и это усмотрение оказывается перевыражением того усмотрения, которое возникает у нас при виде десятка одиноких, никем не признанных демонстрантов у ворот Сормовского завода, равно как и при виде батальона хорошо вооруженных и ничего не понимающих солдат, которые готовятся к бою против десятка безоружных, находясь по другую сторону ворот, равно как и при виде царя Николая, который никак не может понять, какое отношение к нему имеют дела у сормовских ворот, равно как и при виде В.И. Ленина, который едет на велосипеде и радуется тому, что сормовский пролетариат вышел на классовый бой. Все эти взаимоперевыражающиеся смыслы выводят к метасмыслу без актуального осознания, при "простом" узнавании усматриваемого. Именно бессознательность овладения смысловой и метасмысловой субстанцией привела к тому, что число и многообразие смыслов в совокупной системе человеческой мыследеятельности постепенно, но неуклонно увеличивалось и продолжает увеличиваться. 2. Знание значения и понимание смысла Г.П. Щедровицкий пишет: "Метафизические" вопросы: что такое смысл вообще и что такое значение вообще, где и по каким законам они существуют, - к ним в конце концов приводит всякое языковедческое изучение семантики различных языков независимо от рамок выбранной концепции" [Щедровицкий 1974:82]. Умберто Эко [Есо, 1987] показал, что противопоставление значения ( denotation ) и смысла ( meaning ), экстенсионального и интенсионального восходит к Аристотелю, позже - к Боэцию и Абеляру. Экстенсиональный подход прослеживается от Уильяма Оккама, через поворотный пункт - теорию знаков Роджера Бэкона, далее - в возрождении идей Оккама в мысли Джона Стюарта Милля пять веков спустя. В XIX в. проблема разрабатывалась Готтлобом Фреге, в ХХ - Карнапом, Монтегю и др. По Карнапу, и смыслы, и значения - это "концепты". Концепт - постулированный абстрактный объект. Он включает определенные свойства, отношения, а также "индивидные концепты", т.е. то, что у индивида соответствует концепту. Определяя "смысл" и "значение" как понятия, необходимые при рассмотрении понимания как субстанции, мы должны прежде всего решить, для описания каких действий это нужно. Г.П. Щедровицкий [там же: 87] считает, что "рассмотреть "смыслы" и "значения" с деятельностной точки зрения - это значит прежде всего ввести и изобразить в соответствующих схемах такие системы деятельности (или системы, принадлежащие к деятельности), относительно которых "смыслы" и "значения" являются элементами и частичными организованностями ; это даст возможность выводить затем функции и основные характеристики строения этих элементов, исходя из наших представлений о процессах и механизмах функционирования и развития систем деятельности". Не подлежит сомнению, что мы имеем возможность выполнить это существенную рекомендацию Г.П. Щедровицкого: и смыслы, и значения являются для нас частичными организованностями рефлексии, тогда как выше этих частичных организованностей стоит более крупная организованность - понимание . Нам сейчас надо начать с разведения, противопоставления частичных организованностей - значения и смысла. Фреге [ Frege 1974:122] отметил, что смыслы - совсем не то, что значения. Значения общи для всех, смыслы же принадлежат (или передаются) кому-то, причем это происходит в определенное время. Добавим, что эта принадлежность или передача имеет место еще и в определенной ситуации. Как отмечают историки науки [ Baker , Hacker 1980:33], Фреге был первым, кто противопоставил смысл (он назвал его мыслью) и референцию (отнесенность знака к означаемому). Представление об истинности было приписано референции. По Фреге, имена обозначают ( bedeutеn ) значение и выражают ( ausdrucken ) смысл. Имя "Наполеон Бонапарт" имеет и значение, и смысл, "Пегас" - только смысл. В связи с проблемой противопоставленности значения и смысла существует и проблема противопоставления экстенсиональности и интенсиональности. Значение экстенсионально. По Б. Расселу [ Russel 1940:324-328] и Р. Карнапу [ Carnap 1956:46-48], экстенсионально то выражение, в котором "экстенсия" (обращенность на денотат) непременно есть функция экстенсий его семантически важных частей. Экстенсия и есть истинностная ценность выражения. Так, выражение "Георгий не может не есть" верно, если Георгий - человек и при этом "люди не могут не есть". Контекст такого рода - экстенсионален (ситуация текстопостроения). Все остальные типы выражений и контекстов интенсиональны [Карпович 1984:22]. Первый признак интенсиональности - модальность. Выражение "Георгия надо кормить/не кормить" модально и при этом не вытекает из приведенного экстенсионального выражения. Отсюда - уже появление или наличие модальности дает смысл, принципиально не поддающийся определению по истинности. Таковы, например, смыслы "нежелания кормить Георгия", "постоянное стремление накормить Георгия" - достаточно примитивные, но уже смыслы. Смысл состоит не только из модальности: модальность - лишь начальный элемент конструкции смысла, но это, во всяком случае, не элемент значения, не элемент экстенсионала. Экстенсионал (референция) - это область предметной приложимости для единицы языка, особенно же для слова. Для предложения это есть область логической валентности [Карнап 1959]. Значение - это экстенсия (распространение) предиката на индивиды. Смысл как интенсия - источник экстенсий (по Фреге). Интенсия включает в себя способ данности экстенсии. Интенсия - умственный критерий, "благодаря которому можно применить или отказаться применять данное выражение при наличии представленных вещей или ситуаций" [ Lewis 1944:242]. Интенсия определяет не только индивидуальную экстенсию, но и весь круг возможных экстенсий. Значение существует в языке, смысл - в дискурсе [ Todorov 1981]. Поэтому значения только социальны, но оторваны от индивидуальных субъективностей. Именно по этой причине они не дают возможности охватить сущность. Охват сущности требует рефлексии, организованность которой есть смыслопостроение. Смысл социален, но при этом и личностен. Он - часть человеческого индивидуального бытия, разделенного с другими . Знак может стать сигналом, лишь обретя смысл, поэтому понимаемое есть смысл, а не значение. Поэтому люди обычно знают, что такое "брат", но не могут легко определить значение - "ребенок тех же родителей, мужского пола" ( male sibling ) [ Lehrer 1970:8]. Пользование смыслом не требует знания значения. Сами значения выводятся из смыслов, и когда говорят, что и смыслы складываются из значений, смешивают [ Goldstein 1982] ситуацию учебного овладения языком с помощью словаря и реальную ситуацию живого общения. Значение возникает в связи с учебными и лингвистическими задачами. Оно возникает потому, что общество не может согласиться с бытованием языка только в виде parole и langage : язык должен существовать еще и институционально - в виде langue , фиксированного в виде словарей, грамматик, образцовых звукозаписей, вообще в виде собрания нормативов. При несоблюдении этого условия могла бы прерваться культурная традиция всех старописьменных народов, которым подражают народы новописьменные и даже бесписьменные. Поскольку дело идет о культуре, существующей в виде знаний, знание вводится в систему содержаний , т.е. в систему предицирования. При предицировании выполняются две задачи: во-первых, референция, т.е. указание на предметную отнесенность единиц, во-вторых, введение собственно значения , которое А.Р. Лурия [Лурия 1979:51] рассматривает как "функцию выделения отдельных признаков в предмете, обобщения их и введения предмета в известную систему категорий". Вообще двигаться от смысла к значению -это возвращаться от смысла к содержанию как однонаправленной предикации; зато при этом исчезают такие черты смысла, как неопределенность, размытость, плюрализм. Значение - это и обращение продуцента к предмету с помощью знака, и семантическое правило, конституирующее знак, единство акта и нормы. Значение -часть содержания, аналогичная, во-первых, стереотипу мыследействия, во-вторых, "энциклопедической семеме" [ Magureanu 1985]. Понимание значений и складывающихся из них содержаний очень важно при когнитивной работе с текстом, при когнитивном понимании. Содержание , представленное в словах, закреплено в значениях, коль скоро слово берется как номинативная единица, смысл же существует лишь в коммуникации . Важность содержательного аспекта значений очевидна, в том числе и в рамках субстанциальной стороны понимания. Уже семантизирующее понимание предполагает, что усмотрение смысла сочетается у реципиента со знанием значения: в значение входит не "знание о мире", а содержание как необходимое дополнение к смыслу или та основа, к которой смысл добавляется. И.А. Стернин [Стернин 1985:28] полагает даже, что значение и "знание о мире" очевидным образом совпадают, поскольку семы фиксируют именно знание о предмете: в слове "голова" есть семы "наличие лица", "наличие черепа" и т.п. Это знание может быть не поддающимся формулированию со стороны реципиента, но он с этим знанием, вообще говоря, всегда "соглашается", когда ему дают такие предикации, вводимые в рамки пропозиций. Все вообще непропозициональные формы восприятия могут быть сведены к пропозициональным [ Hintikka 1969; Hintikka 1975]. Перевод смыслов в значения возможет в принципе, и этим воспользовалась лингвистика в своей грандиозной работе по созданию словарей и грамматик. Благодаря разработке и систематизации значений лингвистика взяла под контроль все речевые аспекты человеческой деятельности, создала условия для оптимального развития речи, а отсюда - и человека вообще. В реальной коммуникации высказывание имеет смыслы, но когда оно рассматривается лингвистом (а вслед за ним всеми учащимися в условиях обучения) как способ предицирования, то оказывается перед реципиентом уже не высказыванием, а предложением и соответственно имеет содержание , поддающееся классификациям, анализам, категоризациям, сравнениям, противопоставлениям, оценкам и другим процедурам, необходимым и для когнитивной работы, и для научения людей когнитивной работе. В эту когнитивную работу входит, как известно, и обучение родному и неродному языку, и по этой, а также по многим иным причинам предложение трактуется как реализация правил сложения слов, и в этом случае слова выступают как носители значений . Работа со значениями оказывается мощным фактором субстанциального понимания в очень распространенных условиях обучения, уведомления, осведомления и в других условиях, требующих семантизирующего и когнитивного понимания. Эпистемологическая вторичность значений в субстанции понимания отнюдь не делает их маловажными именно для субстанции понимания, хотя и показывает их относительно малую роль в понимании, взятом с процессуальной стороны. Чтобы прочесть "Отца Сергия", надо знать, хранить в своей человеческой субъективности огромное содержательное знание, в том числе и знание языка, фиксированное в системе значений. Однако само чтение будет бессмысленно, если понимание в своем процессе строится на отыскании, фиксации и "понимании" уже усвоенных значений слов и пропозиционных структурных нормативов. Смысл тяготеет к динамизму, значение - к стабильности, и оба эти признака создают необходимый баланс в понимании как субстанции. Значение близко к содержанию, смысл - к ситуации с ее личностным компонентом. Смысл выводится из ситуации; если эта ситуация вербальная, смысл выводится из вербального контекста. Отвечая на вопрос о смысле, обычно придумывают вербальную ситуацию (контекст): А кто такие феодалы? Ну, это… раньше... ну, феодалы и буржуазия. Теперь понятно. Как мы видим, необходимости дать дефиницию значения нет, а вот необходимость вербального контекста, возвращающего читателя к уже "пройденной" онтологической картине, к рефлексии над актом мысли-коммуникации, совершенно очевидна. Смысл бывает только в ситуации, тогда как значение внеконтекстно [Стернин 1985:99]. Значение состоит из предустановленного набора сем, смысл - из интенционально релевантных ноэм, из такого их набора, который соответствует задачам, чувствам, воспоминаниям читателя. Слова "есть хочу", сказанные возбужденным ребенком, отсылаемым спать, имеют значение "Ребенок испытывает чувство голода" и смысл "Надо оттянуть время укладывания спать" [ Fries 1954:57-68]. Ситуацию можно трактовать как "положение вещей", куда входят и ситуации-состояния, и ситуации-процессы, и ситуации-события, и ситуации обладания свойством ("Юра ревнив"), и потенциальные факты и т.п. По поводу ситуации, создающей смысл, люди не всегда задумываются. Между тем есть множество ситуаций со смыслом и такое же множество пустых разговоров, в которых значение (и содержание!) есть, а смысла нет. Э. фон Глязерсфельд [ Glasersfeld 1983:213] приводит такой пример: некто выходит на стоянку автомобилей из своего учреждения и поднимает с земли записку: "В четверг, 11 ноября, в 3 часа дня". Значение ясно: в такое-то и такое-то время. Однако нет никакой конфигурации связей и отношений, в которую можно было бы включить эту референцию, т.е. нет смысла . Смысла нет, поскольку нет ситуации для включения референции - ситуации, где были бы и другие связи, соотносительные с рефлективной реальностью реципиента. Одна из важнейших граней понимаемого - различение осмысленного и такого, которое имеет только содержание и, следовательно, форму и значение. Пустые отрезки текста, не имеющие смысла, но при этом имеющие содержание и значение, весьма распространены как в разговорной речи, так и в произведениях литературы и кинематографии (например, популярный мексиканский сериал “Богатые тоже плачут”, сериал “Санта-Барбара”). Совершенно очевидно, что как смыслы, так и содержания и значения составляют вместе субстанцию понимания и нет никакой ценности в обсуждении вопроса, что "важнее" или "лучше" - знание или понимание. Оперирование смыслами и знание значений - две разные половины также и языковой личности. Эти половины не симметричны: референциальные процедуры - это не смыслы в операциональном обличье, а смыслы - это не лингвистические формулировки процедур идентификации [ Marconi 1987]. Не все, что имеет значение, имеет смысл. Не все, что имеет смысл, имеет значение. Например, в слове-предложении "Ой" смысл есть, референта нет. В слове "если" есть значение, но тоже нет референта. В словосочетании "в то время как" референт есть ("время"), значение есть, смысла нет. Все эти ситуации соотношений смыслов и значений приводят к появлению грани понимаемого: необходимо понять характер денотации. Случай, когда такой вещи нет. Здесь может быть нулевая денотация при ненулевом смысле (например, "домовой"). Случаи, когда такая вещь единична ("аттический полис"). Случаи, когда такая вещь репрезентирует класс вещей ("стол") [ Lewis 1944]. Смешение этих трех ситуаций обозначения - один из источников непонимания текста; лишь при определенном внимании все три разных случая могут восприниматься социально адекватно. К этому надо добавить, что значения небезразличны к той "материи", которую они обозначают, - к референтам, тогда как смыслы могут быть безразличны к тем значениям, с которыми они соотносительны. Смысл действительно соотносителен со значениями, референциями, но значения, коррелирующие со смыслами, могут быть любые . Например, "падение" отца Сергия описано у Толстого так: Отец Сергий спрашивает у слабоумной девицы ее имя, и она отвечает: Марья. А что? Она взяла руку и поцеловала ее, а потом одной рукой обвила его за пояс и прижимала к себе. Что ты? - сказал он. - Марья. Ты дьявол. Ну, авось ничего. И она, обнимая его, села с ним на кровать. На рассвете он вышел на крыльцо. Как мы видим, значений, коррелирующих с "падением", просто нет. Совершенно очевидно, что сходные (с бытовой точки зрения) ситуации описаны в литературе и в разговорах миллионы раз и, как и в приведенном примере, во множестве случаев нет в этих описаниях и повествованиях никаких прямых номинаций случившегося, но смысл ситуации каждый раз совершенно ясен благодаря отсылке не к натуральным предметам и событиям "в объективном мире", а к рефлективной реальности, к "миру памяти и опыта" читателя. Стабильность смысла - не в "привязке" к значениям или референтам, а в статусе "самой всеобщности, в статусе тематического объекта для интенционального акта" [ Bruzina 1970:15]. Толстой не нуждался в подробностях описываемого события - ему нужно было иметь минимально достаточное количество ноэм, используемых для минимально достаточного интендирования минимально достаточного числа точек в онтологической конструкции нормально развитого и нормально воспитанного читателя. Как говорит С.Б. Крымский [Крымский 1965], смыслом называют то, что выражено , - в противоположность значению, т.е. обозначению . В хорошем тексте обозначено сравнительно немного, выражено (еще говорят так: "сказано") очень много, поскольку для нормального понимания как развиваемой субстанции смысл здесь должен был принципиально преобладать над значениями. Разумеется, соотнесенность с референтом есть и в таких текстах, но она замаскирована, она присутствует лишь как "характеризующая информация" [Варина 1967:8]. Отметим и другие отличия смыслов от значений - отличия, существенные для понимания как субстанции. Так, построение значения происходит за пределами мира онтологических картин - еще одно важное отличие значения от смысла. Смыслы создают все люди, значения формулируются составителями словарей. Только смыслы могут иметь свойство неповторимости - еще одно отличие от значения [Айдарова 1983:22]. Значение всегда социально и только социально, смысл же включает любую меру уникальности индивидуальных ситуаций деятельности и коммуникации. Значение стабильно существует в словаре, а не в коммуникации, причем для значения безразличен даже энциклопедический компонент, весьма существенный для смысла [ Vasiliu 1986]. Значение системно благодаря системности сем; последних очень много у каждого слова в языке, что имеет большую педагогическую значимость: можно подготовить людей, более оперативно производящих смыслы, т.е. превращающих семы в ноэмы. С точки зрения сибирского лингвиста В.П. Васильева, слово - это "семный комплекс". "Знать слово" - это знать очень много. Знать слово "дождь" - это знать про капли, дождевые капли, воду, про льющуюся воду, дождевую воду, про то, что дождь может омыть, что он льет, что он имеет отношение к тучам и облакам, что начало дождя имеет такой характер: "Начал накрапывать дождь", а до этого бывает так, что "Небо заволокло тучами", что дождь бывает сильный и несильный, и тогда он "дождичек", "мелкий дождичек", а то еще и "осенний мелкий дождичек". Смысл, при всем своем богатстве, может оказаться беднее значения как предмета знания, фиксированного - на основе встреч со смыслами - составителем хорошей словарной статьи. В идеально описанном значении присутствуют все семы (по устному сообщению В.П. Васильева, семный комплекс "дождь" имеет 47 сем); в любом смысле, напротив, присутствуют далеко не все ноэмы, которые могли бы войти в этот смысл или близкие смыслы. Подобные же соотношения существуют между смыслами и значениями и в грамматике. В предложениях Он побежал; Он как побежит; Он побежал было разные значения, тогда как в предложениях По шоссе гнали женщин, и он, шестилетний Женя, увидел маму, побежал было к ней, но… А Наполеон-то этот ихний, ну, побежал было брать, говорят, нашу Москву, ишь додумался, но… разные смыслы: в одном случае - "бедный мальчик", в другом -"необоснованные и наглые претензии" Таким образом, значение, денотация, референция, экстенсионал - это область проникновения в содержательную сторону языковых знаков, это знание знаков , тогда как в смыслах опредмечено понимание ситуаций . Термины "сигнификат", "десигнат", "интенсионал" относятся к этой сфере, сюда же надо отнести и "подтекст" - еще один синоним "смысла", но употребляемый с некоторой таинственностью. (О синонимии "подтекста" и "смысла" писал А.М. Камчатнов [Камчатнов 1988]). Значение фиксирует отношение знака к реальности, а смысл сам есть реальность [Нарский 1969]. Поэтому при построении схем действования при понимании текста категоризуются отнюдь не лексические значения слов, а смыслы или, как говорит М. Гоффман [ Hoffmann 1981], "стилистические смыслы". Последние и подлежат распредмечиванию, а вовсе не припоминанию, как это бывает со значениями: смысл надо восстанавливать, придумывать или, наконец, искать. Смысл первичен по отношению к значению: смысл включает в себя способ данности ( Art des Gegebenseins ) референта и таким способом конкретно детерминирует значение [ Frege 1892]. Определяемость значений смыслами отмечал и Льюис [ C . J . Lewis 1944], при этом он считал важным и то, что понимание определяется смыслом . После использования смысла, т.е. после множества использований, можно построить конечное число правил употребления единицы, т.е. ее значение как факт научно-лексикографического и научно-грамматического знания. Это знание, хранящееся в книгах по грамматике и словарях, может быть освоено также и множеством учащихся, что, несомненно, окультуривает всю субстанцию смыслообразования при производстве и понимании произведений речи. Смыслы объективируются, не теряя при этом и своей индивидуальности, коммуникация совершенствуется благодаря повышению культуры коммуникантов - носителей языка, реципиентов смыслов, соотносительных со значениями. В отношении смысла имеет место большое количество недоразумений в лингвистической литературе. Довольно широко распространена вера в то, что смысл "уже существует" до того, как оказывается выраженным. В этой связи Д.А. Силичев [Силичев 1988:83] высказывал недовольство тем, что существуют структуралисты, полагающие, что "смысл не отражается", а "делается", "производится". Другое научное недоразумение заключается в том, что слова "значение" и "смысл" принимают за синонимы. Разумеется, если верят в то, что любой идеальный продукт есть "результат процесса отражения объективной действительности", этого никак не может быть иначе, как при полном совпадении всего нематериального, "отражающего материю". Тем более должны слиться значение и смысл: "Смысл, значение - вот та самая существенная цель, которая преследуется процессом отражения" [Петрушевский 1967:9]. Поскольку принималось за истину, что главное и в значении, и в смысле заключается в том, что оба "отражают действительность", оставалось присоединить к этой паре еще один конструкт, тоже "обязанный отражению" своим существованием. Действительно, "единственно научное истолкование сущности значения дается марксистско-ленинской теорией, согласно которой значение может быть истолковано только как отражение действительности» [Панова 1984]. По некоторым версиям, действительность сходным способом отражается и в понятии, отчего возникает необходимость показать сразу и сходство и несходство значения и понятия. Эту задачу решали следующим образом: Значение - это "понятие, выраженное в данной системе языка, преломленное сквозь его призму" [Будагов 1974:3]. Путаницу терминов усугубляли философы: "Следует признать, что понятие и значение тождественны по своему содержанию [Шафф 1963:291]. Возможно, путаница была бы чуть меньше, если бы авторы этого типа могли объяснить, что именно они имеют в виду, пользуясь терминами "понятие", "значение", "содержание". Часто создается впечатление, что эти авторы уверены в абсолютной синонимичности всех подобных слов, но полагают, что прочая публика еще не заметила этой абсолютной синонимичности. Позже про эту тайну стали говорить более благожелательным (к публике) способом. Например, стали говорить, что тождество смысла, значения и понятия уже известны массовому читателю: "Известно, что в основе смысловой стороны слова лежит понятие, и по своей сущности лексическое значение слова наиболее близко к понятийному" [Ерзинкян 1988:5]. В "понятие" обычно входят и "эмоции", которые тоже "отражаются автором" и "воспринимаются читателем"… Видимо, "эмоции" входят и в значение - отсюда "эмоциональная окрашенность значения". В значение как бы "вводятся" и средства выражения - отсюда "экспрессивная окрашенность значения". Многие авторы, как уже сказано, полагают, что смыслы "уже существуют", а значения "помогают их раскрыть". Часто также считают, что смысл - это дополнительное (по отношению к значению) прагматическое содержание, которое слово приобретает в процессе речевого общения [Азнаурова 1988]. Во всех этих случаях считают, что смысл происходит из значения, а вовсе не наоборот. Вера в первичность и "командное положение" значений существует и подвергается критике с давних времен. Ж. Бокошев [Бокошев 1980:134] обращает внимание на поэму "Кемчонтой" акына-демократа Тоголока Молдо. Герой поэмы Кемчонтой старается запомнить только значения слов, не считаясь со смыслом, - "и попадает в смешное или даже неприятное положение". Вера в то, что любой текст состоит из знаков и их значений, что любое произведение искусства есть лишь "знак чего-то", довольно распространена из-за ущербного отношения к семиотике, трактуемой довольно плоско. Впрочем, это давно уже вызывает возражения: если трактовать произведение искусства только как "знак", то никто не глядел бы на это произведение, уже достигнув "знания обозначенного" этим произведением [ Schultz 1975:77]. Вместе с тем признание первичности смысла вовсе не следует трактовать как основание для пренебрежительного отношения к значению. Если смысл -представитель свободы реципиента, свободы его выбора, свободы его интендирования, обращенного на элементы онтологической конструкции, то значение - представитель и носитель культуры и социальности того же реципиента. Именно значение - это тот конструкт, благодаря которому мои смыслы оказываются привязанными к смыслам и всех других людей, и особенно тех людей, которые получили сходное со мной воспитание и обучение, - и в этом социальность понимания значений. Одновременно значение привязывает меня и к поколениям моих предшественников, не позволяет моему смыслопостроению при чтении Пушкина уйти так далеко от Пушкина, что я уже не буду его наследником. На знании общих языковому коллективу значений держится вся общность обучения, школы, культуры, нации. Если бы свобода, воплощенная в смыслообразовании, была абсолютна и заключалась бы только в том, что я "понимаю как мне хочется", человеческий род распался бы, но если бы понимание единообразно вытекало только из значений, то потеря свободы превратилась бы для человеческого рода в прекращение развития. Баланс смысла и значения - это не только баланс свободы и культуры, это еще и баланс единства коллектива и развития личности. Знание значений поэтому так же важно для личного и общественного бытия человека и коллектива, как важно образование и понимание смыслов. После того как Фреге показал, что смысл определяет значение, было выяснено, что он определяет не только данное значение, “но также и целый диапазон возможных экстенсий - для всех логически возможных ситуаций”. [ Carnap 1956:246] При этом логически возможные ситуации могут быть контрфактуальны; отсюда -теория смысла в "возможных мирах" [ Smith , Mc Intyre 1982:279]. Очевидно, знание значения - огромное культурное требование еще и потому, что открывает человеку доступ ко множеству ранее неизвестных ему смыслов "возможных миров". Первичность смысла в коммуникации и практической деятельности человека и коллектива отнюдь не отменяет того положения, что вторичное, т.е. значение, в системе обучения, развития и формирования человека в его социокультурном бытии открывает доступ к первичному. Значение - это то, что остается в памяти как реципиента, так и продуцента после всех социально приемлемых актов смыслообразования. Этот остаток важен для языковой и всякой иной педагогики при всех последующих актах смыслообразования и смысловосприятия: значения "готовы по первому поводу всплыть на поверхность" [Виноградов 1972:17]. Таков статус значения в бытии владеющего языком человека. Именно поэтому языковая личность благодаря значениям может выходить к рефлексии над смыслами как репрезентантами "живой речи": "Все в языке - продукт конденсации живой речи" [Бибихин 1978:231]. Важно, что благодаря наличию значений существует содержание внутри слова (например, содержание слова "учитель" есть его внутренняя форма "тот, кто учит"). Эта содержательная сторона слова есть его постоянная предикация. На поверхность постоянно извлекается такая предикативность. Поэтому любой знак характеризуется актами предицирования [Лосев 1976:404]. Это отмечал и А.А. Потебня [Потебня 1976:147]: "Слово - сгущенная мысль". Знаковые формы языка с их значениями - это пусковой механизм деятельности ради понимания и знания. Вторичность значений по отношению к смыслам в актах деятельности никак не освобождает значения от первичности с точки зрения готовности к деятельности . Р. Шляйфер [ Schleifer 1987:25] подробно развертывает систему взглядов на этот вопрос: значение - не просто денотация и референция, но и комплексный объект восприятия, его причина и следствие, познание субстанции и отношения. Роль лингвистики, создавшей словари и грамматики и пустившей эти конструкции в культурный оборот, колоссальна: все названные способности у людей существуют не "от природы", а искусственно, они получены человечеством из рук лингвистов-лексикографов, лингвистов-грамматистов, лингвистов-учителей. Ценность знания значений не сводится к возможностям выхода к содержанию и к формированию готовности восстанавливать смыслы. Существенно также и прагматическое значение. Значение слова, взятое с этой стороны, сопоставимо с функцией денег. "Деньги не всегда используются для того, чтобы покупать вещи, на которые можно указать, - например, когда на них покупается разрешение сидеть в театре, или титул, или чья-нибудь жизнь" [ Wittgenstein 1979:30]. Акт семантизации предполагает знание прагматического отношения. Не зная, вопрос перед нами или утверждение, мы не может выполнить акта семантизирующего понимания. Очевидно, значение определенным образом выводит человека к смыслу, но неверно было бы сказать, что якобы смысл выводится, получается из значения. Просто человек, который владеет значениями, лучше осуществляет осмысливание значений . Это происходит потому, что он получил образование, включающее выполненное лингвистами и педагогами и застывшее в словарях и грамматиках означивание смысла . И если для филологической герменевтики смысл есть исходное по отношению к значению, то для герменевтики собственно педагогической значение может оказаться исходным по отношению к смыслу. 3. Средства текстопостроения как составляющая субстанциальной стороны понимания Выше мы рассмотрели такие составляющие субстанциальной стороны понимания, как (1) содержание, (2) смыслы, (3) значения. На этой основе можно перейти к рассмотрению средств текстопостроения как еще одной составляющей субстанциальной стороны понимания текста. Сам по себе вопрос о средствах -вопрос сугубо филологический, поэтому в герменевтическом исследовании рассмотрение средств текстопостроения - лишь введение к анализу отношений между средствами и смыслами. Средства текстопостроения имеют безусловный "знаковый характер". Они могут восприниматься так же, как воспринимаются все другие знаки, - оставаться незамеченными при тенденции замечать только содержания и смыслы. Они же могут восприниматься как ипостаси смыслов - например, смыслообразующая метафора запоминается лучше, чем тот смысл, который она образует. Иудушка Головлев -предмет внимания и запоминания в большей мере, чем смысл "универсальной выморочности" всего народного хозяйства в условиях наличия начальника над хозяйством и жизнью (особенно в сельской местности). Этот сложный смысл не запоминается и не видится сам по себе: он легко усматривается и восстанавливается в условиях, когда средство текстопостроения (Иудушка) переживается как компонент содержательности - ипостась смыслов, как, впрочем, и ипостась содержаний. Наконец, текстообразующие средства могут выступать в роли части онтологической конструкции , то есть выполнять функцию интендируемых "мест" в этой конструкции, с той особенностью, что интенция (направленная рефлексия) реализуется в этом случае только в рефлексии, фиксирующейся только в поясе мысли-коммуникации. Таким образом, средства текстопостроения - это всегда еще и средства пробуждения рефлексии , фиксирующейся (объективирующейся) в поясе мысли-коммуникации (обозначим это как Р/М-К). Фиксация рефлексии именно в этом поясе иррадиирует и на два остальных пояса, поэтому в широком смысле можно говорить о текстообразующих средствах как средствах пробуждения рефлексии вообще - Р/{(мД+(М-К)+М}. Последнее определение текстообразующих средств особенно важно: именно благодаря способности пробуждать рефлексию вообще средства текстообразования могут пробудить рефлексию, фиксирующуюся не только в поясе мысли-коммуникации (Р/М-К), но и в поясе мыследействования (Р/мД), и в поясе чистого мышления (Р/М). Это позволяет реципиенту восстанавливать на этом основании как ситуацию мыследействования, так и ситуацию чистого мышления продуцента, т.е. распредмечивать средства текстопостроения и тем самым выходить к усмотрению живой способности смыслообразования у продуцента. Если знак конвенционален, то средство текстообразования и условно, и не условно, и безусловно. Во многих случаях средства текстопостроения могут вообще не входить в форму, а входить в содержание (? смыслу!). Так, сюжет и деталь содержательны , но они - средства текстопостроения, наряду с метафорами, стихотворными размерами и прочими компонентами текстовой формы . Вообще средства текстопостроения - это средства не столько формы, сколько средства непосредственного моделирования смысла . Метасредства, в свою очередь, моделируют модели. Сама техника распредмечивания есть техника чтения моделей действования того, кто моделировал смыслообразование при его опредмечивании. Общность между опредмечивающим и распредмечивающим субъектами основывается на общности отношения к схемам и моделям понимаемой содержательности (т.е. смыслов вкупе с содержаниями). Средства текстообразования категоризуются и образуют метасредства такого рода, как избыточность/ энтропийность текста, его экспликационность/ импликационность, актуализованность/ автоматизированность средств выражения, соотношение формы формальной и формы содержательной (по Гегелю), соотношение "автор/ текст", соотношение "вымысел/ текст", виды словесности, соотношение подъязыков и соответствующее соотношение стилей. Все эти средства стоят в определенных, часто необходимых отношениях как с содержаниями, так и со смыслами, и эти отношения нуждаются в изучении и определении. Среди таких определений - емкость текста - количество объективно данных смыслов на единицу протяженности текста как набора средств текстопостроения [Цеймах 1973:111]. Другие параметры отношений средств с содержательностью - объем использованной в произведении лексики, мера фигуративности. Вопрос этот совершенно не разработан, очевидно только то, что есть определенная корреляция средств и смыслов, что средства произвольны только в langue , но не в parole [ Swiggers 1983] и тем более не в langage . Отношения и соотношения между текстообразующими средствами и текстовыми смыслами - одна из фундаментальных проблем всей филологической герменевтики вообще. При решении этого вопроса филологическая герменевтика тесно связана с воззрениями в области эстетики. Это обусловлено тем, что распредмечивающее понимание - не только феноменологическое (выводящее к сущностям, смыслам), оно еще и эстетическое. Действительно, здесь всегда имеет место эстетический предмет - выразительные формы любой сферы деятельности, и средства текстообразования выступают также в этой функции. Кант называл эстетику "наукой о правилах чувственности вообще", в том числе и о правилах, по которым формы деятельности выводят субъекта к собственно человеческому чувству. По Канту, принципы чувственности - предмет феноменологии. Последняя разграничивает феномен и ноумен ("вещь в себе"), явление и сущность. Развивая идеи Канта, Э. Гуссерль построил феноменологию очень филологично - как своеобразную философскую "археологию", ищущую неявный смысл. Поиск смысла во всех этих системах сопряжен с корреляцией средств выражения и смыслов. С точки зрения Гегеля [Гегель 1956:265], средства следовало бы отнести к "чувственному материалу", смыслы - к "сверхчувственному материалу". При изменении текстообразующих средств меняется и конфигурация связей и отношений в ситуациях действования и коммуницирования, образующая смысл. Это объясняется тем, что конфигурация захватывает и средства, т.е. средства - часть ситуации, необходимой для смыслообразования. Фраза "не изменяя смысла" означает: "не изменяя ничего существенного в средствах". И наоборот, планомерное изменение, развитие и построение смыслов может быть обеспечено регулированием средств текстопостроения. С точки зрения смыслообразования и смысловосприятия как некоторого действования можно вообще утверждать, что средства представляют смыслы, что смыслы представлены в виде средств, причем представлены предметно, опредмечены в средствах. Последние позволяют восстановить для реципиента ситуацию действования и мыследействования продуцента - ситуации как реальные, так и придуманные продуцентом. Соотношения типа "средство/смысл" и "смысл/средство" в равной мере видятся реципиентом как смыслы. «Субстанциальность ("что") одного рода действования может быть частью процессуальности ("как") другого рода действования» [ Goodman 1978:23]. Иначе говоря, единицы и метаединицы, видимые в одном тексте как "форма", в другом выступают как "содержание". Единство субстанциального и процессуального начал в смыслообразовании, в использовании средств приводит к тому, что соотнесение смысла со средством есть и творческий акт, и реализация творческого характера своего материала. При этом очень важно, что в этом соотнесении действует опыт соотнесений, но не так, как действовал бы некоторый стандарт соотнесения по готовой аналогии. Акт соотнесения средств и смысла - это поиск способа построить способ понимания, а не аналогия к некоторому "готовому пониманию". Средства текстопостроения -моделирующие средства. В отличие от значений число моделируемых этими средствами смыслов бесконечно, как бесконечно число их коррелятов в виде средств текстопостроения. Средства стоят к смыслам в "отношении репрезентации", они -"вещи, представляющие другие вещи" [Ильенков 1984:48]. Средства текстопостроения нельзя трактовать как только знаки. Это - способы существования смыслов в человеке, "места" онтологической конструкции, каким-то образом пробуждающие рефлексию, направленную на восстановление и создание новых смыслов. Это восстановление и создание новых смыслов на основе действования со средствами и составляет сущность распредмечивания текстовой формы. При этом распредмечивание существенно отличается от декодирования - в той же мере, в какой распредмечивающее понимание отличается от семантизирующего. Главное отличие можно усмотреть в том, что распредмечиваемое представлено не в линию , что оно разбросано по всему объекту действительности, в которой развертывается деятельность. Онтогенетически это связано с тем, что ассоциативно-маркерная сеть, давшая в истории человеческого рода жизнь технике распредмечивания, тоже расположена во всем объеме человеческой жизнедеятельности, но это уже вопрос генетический. Средства - это своего рода действия-средства, смыслы - своего рода действия-смыслы, одно превращается в другое в ходе действования, и, по устному замечанию В.П. Литвинова [1987], средство выступает как смысл, в силу чего оно "есть маркер отношений интерпретации между высказываниями о деятельности". Текстообразующие средства могут выступать прямо в функции смыслов. Например, "демократичность" есть смысл, но "демократическое решение портрета знатного лица" - это уже, пожалуй, средство в функции смысла. Сказанное может быть отнесено к среднеазиатской миниатюре 1572 г. (Бухара) "Портрет Абдулла-хана" [Пугаченкова 1979:146-147]. Портрет правителя дан без помпы, персонаж представлен в жанрово-бытовом обличье: он взрезает дыню, как бы приглашая к угощению. Портрет отмечен печатью гениальности, это несомненно, но вот при различении смыслов и средств сомнения закономерно возникают. Аналогичным образом смешное есть средство пародирования, лжевозвышенное есть пародируемое, но смешное вплетено в возвышенное как его противоположность, и именно поэтому «легче всего поддается пародированию поэт патетический» [ Vischer 1967:158]. Иногда различить средство и смысл много легче, например, при соотнесении интенциональной единицы и смысла, но лишь при условии, что модальность как аспект смысла хотя бы нечетко дана лексико-грамматическими средствами, а просодические и паралингвистические средства конкретизируют усмотримое модальное отношение. Например, средство - восходяще-нисходящий ядерный тон и ступенчатая шкала - может, при наличии создающих модальность лексико-грамматических средств, способствовать присутствию смысла "критическое отношение говорящего" [Королева 1988:9]. Очевидно, корреляция часто возникает не между смыслом и средством, а между смыслом и партитурной организацией средств. Сами по себе средства могут выступать как действия (в нашем случае -текстообразующие), лишь вероятностно служащие в роли индикатора смыслы [ Weber 1947:119]. Среди предрассудков, касающихся корреляции и изоморфизма текстообразующих средств и текстовых смыслов, необходимо особенно отметить веру в нераспредмечиваемость тех средств, которые привязаны к определенной национальной культуре. Считается, что национально-языковые культуры бывают столь значительно удалены друг от друга, что само взаимопонимание представителей этих культур становится достижимым только отчасти. Эта абсолютизация непроницаемости культур связана с тем, что в обыденной жизни рефлективные техники понимания произведений речи часто подменяются самотечными нерефлективными процедурами, обеспечивающими лишь иллюзию действования при смысловом восприятии высказывания. Это имеет разные отрицательные последствия, среди которых - преувеличенное представление об идиоматичности "не-нашего" способа коммуникации (а отсюда - и экзистенции). Это приводит к фактическому отказу от усмотрения (хотя бы через технику декодирования) смысла слов уже в рамках элементарного семантизирующего понимания, что далее сказывается и на понимании когнитивном. Эта практика начинается уже со "склейки" словарного значения со смыслом как "той конфигурацией связей и отношений между разными элементами ситуации деятельности и коммуникации" (Г.П. Щедровицкий), которая восстанавливается (или придумывается) хоть человеком культуры А, хоть человеком культуры Б, или В, или Г, Д, Е и т.п. Если значения высказываний национально-культурны , то их смыслы межкультурны . Например, существительное fill зафиксировано в англо-русском словаре в значении "сытость", что в каких-то случаях отнюдь не помогает переводу на русский язык. Между тем перевод часто принимают за понимание и поэтому русскому школьнику говорят, что she drank her fill - "идиоматическое выражение". Действительный же англоязычный реципиент переживает слово fill как опредмеченный смысл, лежащий в его душе и интендируемый при встрече с этим якобы идиоматизмом. Лежащий в онтологической конструкции ("душе") смысл таков, что его можно по-русски перевыразить словами "сколько надо". Никакой "непереводимой специфики" нет, все легко поддается не то что распредмечиванию -элементарному декодированию. Кроме плохих учителей, есть еще и плохие переводчики, благодаря которым многие верят, что где-то "там" есть целые народы, которые "так устроены", что прямо-таки ходят и приговаривают нечто не поддающееся распредмечиванию - "Не правда ли, Джек" или "Моя твоя не понимай". Аналогичным образом видят "непереводимую национальную специфику" в ситуации, когда избиваемый посторонними молодой подзагулявший партиец кричит: "Бей, бей своего отца" (Лу Синь. Подлинная история А Кью): слово "отец" действительно не имеет значения "молодой не-родственник". Между тем техника герменевтического круга и техника распредмечивания легко выведут читающего или слышащего представителя любой культуры к существенному (для понимания эпизода из текста Лу Синя) наднациональному смыслу высказывания, а именно к смыслу "нравственное самооправдание страдания", хотя этот метасмысл и категоризуется из частных смыслов, несколько различных в разных культурах. Сказанное относится и к партитурно накладываемым в этом высказывании на данный метасмысл метасмыслам "беспомощность и гордость невежества", "сила и самоуверенность духовной темноты" и проч. Если системы национально-языковых значений противопоставляют как языки, так и культуры, то потенциальные системы смыслов, метасмыслов и метаметасмыслов (художественных, нравственных и научных идей) делают высказывания в рамках разных культур, да и сами эти культуры, взаимодоступными и взаимопонятными. Если смыслы и средства имеют тенденцию к национальной специфичности, то метаединицы имеют тенденцию к интернациональной доступности. Поэтому мы может понять смысл даже в текстах самых отдаленных национальных культур. Так, "Смелая африканская охотница" Амоса Тутуолы (Нигерия) - нечто большее, чем перевыражение фольклорных мотивов народа йоруба на английском языке. Язык произведения - английский, но это обстоятельство способствует межнациональной доступности только значения каждого из текстообразующих средств, доступных семантизирующему пониманию. Когнитивный тип понимания позволяет международному читателю видеть связи и отношения в ситуациях фольклорной фантастики, но ведь эти усмотрения лишь приоткрывают малый кра |
| Александр Вакуров |
 27.9.2012, 18:51 27.9.2012, 18:51
Сообщение
#3
|
 Хозяин форума Группа: Главные администраторы Сообщений: 26 545 Регистрация: 7.9.2006 Из: Иваново Пользователь №: 1 |
Продолжение текста
Цитата Так, "Смелая африканская охотница" Амоса Тутуолы (Нигерия) - нечто большее, чем перевыражение фольклорных мотивов народа йоруба на английском языке. Язык произведения - английский, но это обстоятельство способствует межнациональной доступности только значения каждого из текстообразующих средств, доступных семантизирующему пониманию. Когнитивный тип понимания позволяет международному читателю видеть связи и отношения в ситуациях фольклорной фантастики, но ведь эти усмотрения лишь приоткрывают малый краешек смысла, опредмеченного в тексте и безусловно отнюдь не явного вне культуры народа йоруба. Доступный краешек смысла дает читателю возможность лишь определить жанр всей книги - национально-специфического фольклорно-фантастического повествования о героине, побеждающей чудовищ. Но чем больше сосредоточивается читатель на точности своей индивидуации (= жанроопределения), тем менее проницаемым становится смысл текста, а ведь Тутуола ставил как раз сверхзадачу ввести международного читателя в богатую и противоречивую реальность собственно национальных смыслов. Читательская успешная ориентированность в духовной реальности мира смыслов народа йоруба может быть результатом достижения лишь третьего, распредмечивающего типа понимания, при котором восстанавливается ситуация мыследействования автора текста. Распредмечивающее понимание предполагает пробуждение недискурсивной ("обыденной") рефлексии теми средствами текстопостроения, в которых писатель опредметил национальные смыслы - пусть даже почти эзотерические. Рефлексия читателя имеет тенденцию к "фиксации", т.е. к объективации в одной из своих ипостасей, которых довольно много, но из которых филолога и педагога более всего интересует понимание. Фиксация рефлексии происходит в трех поясах СМД, каждому из которых соответствует своя деятельность (= логическое пространство) деятельности. При адаптации известной схемы Г.П. Щедровицкого мы можем обозначить типы фиксации рефлексии в их привязке к поясам СМД. Если рефлексия фиксируется только в поясе 3 (мД), понимание характеризуется пустой бездуховностью, ограниченностью горизонта только набором предметных представлений: "Когда я читала, я прямо так и представляла, как у короля Ибембе рога торчат на голове!"; "Как живой, стоит передо мной образ Адебиси, когда она изнутри чистит череп чудовища" и т.п. Если рефлексия фиксируется только в поясе 2 (М-К), понимание сводится к "пустым разговорам" лишь о форме ("Крики "Она не охотница, а ведьма" похожи на крики любой толпы, полной подозрений"). Фиксация рефлексии только в поясе 1 (М) приводит к подмене понимания пустой декларативностью ("Чудовищное - полная противоположность человечности"). Автор текста А. Тутуола практически подготовил познавательно-текстовую ситуацию, исключающую пустую бездуховность, пустые разговоры, пустую декларативность: стилистические и риторические средства текста исключают возможность фиксации рефлексии только в одном поясе. Рефлексия пробуждается в соответствии с техникой понимания "герменевтический круг", дающий выход к разнообразным смыслам и метасмыслам. Кроме того, "направленный на душу" рефлективный акт, дающий инобытие рефлексии в виде фантастических смыслов, немедленно перевыражается в фиксациях рефлексии, дающих смыслы и метасмыслы обыденной международной реальности ("девчоночность" молодой охотницы, бросившей в лесу оружие, чтобы налегке сходить поглядеть на бегемотов и мн. др.). Эти принципы текстопостроения, авторская ориентация читателя на сильные техники понимания (интендирование, индивидуация, экспектация, герменевтический круг, разрыв круга, распредмечивание, разграничение смыслов и содержаний, переопредмечивание, наращивание содержаний, декодирование, растягивание смыслов, феноменологическая редукция, ряд других) заставляют читателя обращаться к своей рефлективной реальности как миру онтологических картин, "отстоявшихся" из опыта. Среди картин в этом "отстойнике опыта" есть и экзистенциальные метасмыслы, которые задействуются каждый раз, когда читатель встречается с инонациональными частными смыслами культуры и жизни людей. Эти частные смыслы при своей категоризации выходят к межнациональным экзистенциальным метасмыслам. В этих условиях онтологическая конструкция читателя сливается с онтологической конструкцией некогда "непроницаемой" инонациональной ментальности, и читатель получает доступ к национально-специфическому переживанию, не говоря уже о национально-специфическом жанре. В этом - основание методики освоения менталитетов как национально-специфических конструкций: смысловая специфичность оказывается слабее общечеловеческой метасмысловой общности. 4. Метаединицы субстанции понимания Мы рассмотрели простые единицы субстанции понимания - содержания, смыслы, значения, средства текстопостроения. Почти все эти единицы могут в ходе действования реципиента категоризоваться и превращаться в метаединицы. Начнем рассмотрение метаединиц с метасмыслов. Все метасмыслы способны превращаться в динамические схемы действования при понимании, в регуляторы дальнейшего действования субъекта. В сущности, эти схемы действования и являются источником метаединиц, в частности метасмыслов. Число средств и смыслов в тексте, особенно художественном, практически бесконечно. Для облегчения работы распредмечивания как продуцент, так и реципиент прибегают к имитационно-творческим динамическим схемам действования при понимании. Единицы этих схем: A. Метасредства , т.е. средства совокупного усмотрения, знания, запоминания, описания, суждения и разговора об опредмечивающих средствах текста. Наличие метасредств позволяет продуценту и реципиенту в равной мере обращаться с частными средствами как со средствами, могущими иметь сходство между собой и поэтому способными категоризоваться. К метасредствам относятся, например, жанры и жанровые своеобразия, коль скоро рефлексия над ними оказывается сходной у продуцента и реципиента. Б. Метасмыслы , т.е. "знания о "совокупно усматриваемых частных смыслах, наращиваемых и/или растягиваемых в процессе рецепции средств, опредмечивающих эти смыслы при продукции текста и становящихся предметом, над которым рефлектирует реципиент в ходе распредмечивания. Наличие метасмыслов превращает распредмечивание сходных средств в имитационный процесс. К метасмыслам относятся, например, художественная идея произведения, художественная идея той или иной "дроби" текста, "тональность" текста (возбуждаемое, по тому или иному замыслу, настроение реципиента текста). B. Метасвязки , т.е. связи, возникающие в процессе рефлексии над метасредствами и метасмыслами. Такова, например, поддающаяся усмотрению связь (= связка) между сюжетной конструкцией и художественной идеей сравнительно большого текста. Эта метасвязь (метасвязка) позволяет при действовании с текстом относиться ко множеству частных связок (типа "форма - функция", "средство - смысл", "форма - содержание" и т.п.) как к материалу, требующему рефлексии облегченной, иначе говоря, рефлексии имитационного характера. Г. Задания и самозадания , возникающие до или в ходе процесса понимания. Д. Категоризованные значащие переживания , измененное отношение к жизни, к миру, к среде, возникающее по ходу рецепции текста. Все эти метаединицы характеризуются единством творческого и имитационного начал в процессах рефлексии, дающих - в организованностях обращенной на них рефлексии - еще более обобщенные и еще более категоризованные единицы, иногда абсолютно новаторские. Например, усмотрение жанра текста как рефлективное действие есть действие, имитационное по определению, но именно оно создает условия для усмотрения и переживания тех формальных и смысловых своеобразий, которые принципиально не являются имитационными предметами. Стабильный схематизм интенции (направленной рефлексии), имеющей место при встрече с текстами культуры, - основной путь к производству и адекватному пониманию всего нового, творческого и индивидуального в текстах. Научение готовности строить метаединицы - это научение строить развертывающиеся комплексы метаединиц, т.е. схемы действования. Некоторые из этих схем более, другие менее, но все так или иначе имитационны. Готовность человека строить схемы - путь к преодолению "готового понимания" (т.е. схематизма в понимании), готовность человека работать имитационно - путь к преодолению имитации, путь к творческим готовностям. Среди характерных способностей метаединиц - способность выступать в форме партитуры. Например, такое метасредство, как многослойная композиция, такой метасмысл, как многоликая и изменчивая авторская позиция. Сама партитурная организованность хоть средств, хоть смыслов, хоть связок между ними -тоже метасредство текстопостроения, но, в отличие от только что названных, метасредство "незамечаемое", т.е. интерпретируемое только в ученой рефлексии, в собственно научной интерпретации текстопостроения, но не фигурирующей в обыденной рефлексии. Не следует смешивать формант "мета-", как он употребляется здесь, с формантом "мета-" в общем языкознании, где он берется в том смысле, что некоторый знак не употребляется, а лишь указывается . Метаязык лингвистики служит для рассмотрения действительного языка, это - язык описания [ Kubczak 1977]. Метаединицы в теории субстанциальности понимания одновременно выполняют и эту общеязыковедческую функцию описания, и функцию единицы действования с текстом. Вторая функция метаединицам языкознания не присуща. Еще одна особенность герменевтической терминологии: метаединицы существенны, по преимуществу, только для распредмечивающего понимания. Категоризации собственно предицируемых содержаний в когнитивном понимании имеют характер простых обобщений и к появлению метаединиц, как правило, не ведут. Наличие метаединиц - одно из знамений активности мыследействования при понимании, они репрезентируют не явления текста, а взаимодействие человека с текстом, т.е. интеллектуальную систему "человек - текст". Их функция - упорядочение деятельности и внесение в нее неожиданности, т.е. в метаединицах действования при понимании скрыты потенции как соблюдений, так и нарушений. Метаединицы -средство организации экспектаций, они же - орудия разрушения одних экспектаций, вытеснения одних другими, они же могут делать нарушения ради актуализации, или ради создания условий для актуализации, или ради создания условия, исключающих актуализацию. Метаединицы - не "натуральный объект", они - "объект" строящийся, причем строящийся не из единиц текста, а из частных единиц действования при понимании. Таксономизация субстанциальной стороны понимания строится на основе этих единиц действования, а таксономизировать весь "реальный мир" и все альтернативные миры в качестве объекта понимания не может никто. Элементы смысла и собственно смыслы - это только элементы субстанции, метаединицы -действительные единицы этой субстанции, именно они определяют характер субстанции. Они "главнее" частных единиц, в том числе и единиц средств. Метасмысл есть смысл, растянутый в силу рефлексии над предшествованием, категоризованный в силу рефлексии над перевыразимостью, т.е. метасмысл есть действительно рефлективный смысл, главный смысл, смысл смыслов, единственный действительный смысл. Понять текст в процессе распредмечивающего понимания -это понять не столько смыслы, сколько метасмыслы, опереться не столько на средства, сколько на метасредства. Мы имеем дело с "чистыми смыслами", которые представлены как сущности, ноэматические корреляты интенционального акта [ Natanson 1968:53]. Единицы, в отличие от элементов, теряющих свои свойства при соединении, при любых соединениях и разъединениях свойства сохраняют (эта идея принадлежит Л.С. Выготскому). Очевидно, метаединицы - это единицы, частные смыслы и средства - это элементы, что особенно заметно при переводе с языка на язык: частные смыслы и средства исчезают, метаединицы сохраняются и обеспечивают международное, межнациональное понимание. Это понимание было бы невозможно, коль скоро надо было бы точно передать множественное число глагола в предложении The happy pair were seated и опредмеченное здесь у Голсуорси отчуждение. Метаединицы - средства и результат как типологизации, так и категоризации частных смыслов и средств. Если представить категоризацию как процесс растягивания ряда нитей, а поперек этих нитей сделать синхронный срез, то все категоризации и типологизации, схваченные этим срезом, дадут схему действования при понимании текста. Ф. Шеллинг [Шеллинг 1966:107], комментируя в 1800 г. Канта, отметил, что схема есть "чувственно созерцаемое правило при созидании некоторого предмета… Поскольку наше мышление (т.е. усмотрение) особенного в сущности всегда есть схематизирование, то нужно только обратить рефлексию на схематизирование, как оно постоянно применяется в самом языке (= тексте), чтобы с несомненностью все увидеть… Язык… есть не что иное, как непрерывное схематизирование". Действительно, движение при текстопроизводстве и при текстовосприятии идет по кругу от Р/мД к Р/М, иногда захватывая и Р/М-К. Схемообразование возникло потому, что оно уже было заложено в правилах текстопостроения, хотя причину и следствие можно поменять здесь местами. Шеллинг [там же: 87] обратил внимание и на то, как категоризация идет от частных элементов, элементарных смыслов и средств: "Особенности форм, как таковые, лишены сущностного характера и суть не более как формы, которые могут пребывать в абсолютном лишь постольку, поскольку они, оставаясь особенными, в то же время снова вбирают в себя сущность абсолютного в ее целостности". Далее: "Тот способ изображения, в котором общее обозначает особенное или в котором особенное созерцается через общее, есть схематизм" [там же: 106]. Разумеется, все единицы возникают из элементов, но не сводятся к ним. При этом, однако, ничто не "привносится" в метаединицы такого, чего бы не было в элементарных средствах и смыслах. Метаединицы тем далее сохраняются в памяти, чем более высокую степень категоризации они имеют [ Koestler 1969:201], и поэтому рефлективная реальность состоит из метаединиц, а не из мелочей элементарного мира смыслов и средств, хотя при задействовании той или иной онтологической картины и элементы также могут восстановиться. Одновременно категоризуется множество элементов, причем таким образом, что получается много нитей категоризации. При этом и происходит упорядочение и формирование многообразия понимания как субстанции. Построение динамических схем деятельности в виде множества нитей категоризации - одно из инобытий восхождения от абстрактного к конкретному. Это восхождение обладает достаточной неустойчивостью и лабильностью. Ф. Кликс пишет о категоризации как множественности актов: "Сам этот процесс исключительно лабилен и неустойчив. Выделенные классы и наборы критических признаков сохраняются в памяти лишь в течение очень короткого времени. Как только возникает необходимость в категоризации нового типа или меняется исходная база данных, на основе которой принимаются решения, уже сложившиеся когнитивные механизмы могут распадаться [Кликс 1983:279]. С этой точки зрения метаединицы существуют в мыследеятельности кратковременно, но речь, коммуникативная действительность выступают в роли фиксатора категоризаций в памяти. Появление метаединиц - непосредственный результат актов категоризующей рефлексии над частными элементарными средствами и смыслами. При образовании метаединиц косвенным образом воспроизводится и системность каких-то внетекстовых объектов. Одна из тенденций, возникающих при переходе от элементов к метаединицам, - выход реципиента из чисто практической позиции в позицию внешнюю, исследовательскую: метаединица позволяет "видеть" те элементы, которые в ней обобщены, категоризованы и превращены в динамический схематизм. При этом реципиент и выходит к общественному представлению о способах категоризации и схематизации, хотя это представление может и не презентироваться сознанию актуальным образом. "Глядя" из мира метаединиц, реципиент действительно начинает понимать все элементы своей деятельности, вне зависимости от того, является ли такое понимание организованностью дискурсивной или обыденной рефлексии. Метаединица - точка обзора категоризованных в ней элементов. Этот обзор и приближает субъекта к культуре, заключенной в общественном сознании, но он никак не лишает человека и субъективного момента схемообразования. Роль "индивидуальной интуиции" в схемообразовании весьма велика, что особенно проявляется в условиях поливалентности средств и метасредств текстопостроения [ Morier 1959:137]. Вопрос о соотношении метасредств и метасмыслов - вопрос более филологический, чем конкретно-лингвистический. Такие метасредства, как композиционные штампы, выбор вида словесности, мера метафоризации и другие в значительной мере не зависят от языка, на котором произведен текст, хотя, естественно, отсутствие того или иного вида словесности в таком-то языке при наличии его в другом языке заметно меняет работу переводчика. Мало зависит от избранного языка и действие противоборствующих тенденций текстопостроения (энтропия/ избыточность, импликационность/ экспликационность, актуализация/ автоматизация, содержательная форма/ несодержательная форма, контактность/ дистантность и пр.); эта группа метасредств довольно легко переводится с языка на язык, поскольку она составляет факт общего, а не конкретного языкознания. Противоборствующие тенденции текстопостроения действуют по принципу диспластии (элементы бинарной структуры противопоставлены и поэтому нерасчленимы). Факт диспластии важней факта принадлежности данного текста к корпусу текстов на английском языке, или на португальском, или на татарском - он везде доминирует и обеспечивает смыслообразование и динамические схематизмы. Фактически такая же диспластия лежит в основе отношений между метасредствами и метасмыслами, и не случайно некоторые авторы вообще предлагают не разделять форму и содержание в искусстве [напр., Кожинов 1963:436]. Метасредства имеют несколько функций по отношению к метасмыслам. Первая из этих функций - моделирующая, вторая - опредмечивающая, третья -субститутивная. Моделирующая функция - доведение реципиента до усмотрения метасмысла на основе набора элементарных средств, становящихся метасредством только при достижении метасмысла. Иначе говоря, элементарные средства одновременно моделируют и метасредство, и метасмысл. Г. Берлиоз, аранжируя "Марсельезу" для большого оркестра и двойного хора, вместо слов "тенора" и "басы" написал на полях партитуры: "Все, у кого есть голос, сердце и кровь в жилах" [см. Берлиоз 1962:150]. Этот перечень реального голоса и метафорических сердца и крови в жилах вводит в записанный на полях текст метаединицу "актуализация", метаединицу "метафоризация" и пр.; по мере их введения и моделируется смысл "участие в хоре как общее дело революционного народа". Точно так же используются в текстопостроении сюжетные детали, наименования сюжетных ходов и другие элементарные средства, приводящие к моделированию смысла. Сами же элементарные средства при этом участвуют в "моделировании моделей", причем имеется в виду, что реципиент хотя бы частично принимает модель продуцента. Иногда модель элементарных средств приобретает вид партитуры средств, что приводит к появлению вовсе не смысловой партитуры, а метасмысла как такового. Например, такая партитура в "Двенадцати" А. Блока использована в ситуации уголовной хроники (убийство Катьки); здесь партитура приобретает характер многоголосия, сращивания голосов, что и позволяет автору "лепить" систему смыслов поэмы [Долгополов 1964:189]. Другая функция метасредств - опредмечивание метасмыслов в ситуации действования автора. Здесь метасредство не моделирует, а способствует интенциональному акту, напоминая субъекту о наличии своей ипостаси в его онтологической картине. Вслед за функцией моделирования и функцией опредмечивания следует назвать функцию субституирования метасмыслов метасредствами. Это удобно проиллюстрировать примером восприятия живописи. На выставках произведений В.В. Кандинского зрители могут убедиться в том, что художник использовал метасредство "чистая композиция" и пользовался им так, как будто это был метасмысл. Художник показывает, что можно делать очень живописные вещи, не указывая, каковы конкретно смыслы и метасмыслы. Это достигается великолепной разработкой композиции как таковой: композиция, представленная эстетически чувственно и эстетически смотримо на большой высоте живописности, выступает как мощный побудитель рефлексии над смыслом, который появляется при встрече реципиента с этой живописью. Все эстетические категории образуют метасвязки, причем вслед за этими категориями многие метасвязки мыслятся в бинарных противопоставлениях. Когда говорят, что нечто "читается как классика", фактически пользуются метасвязкой. То же относится к красоте - упорядоченности, соотнесенной с эстетическим идеалом. То же относится к терминам "преемственность", "новаторство", "современность/ традиционность" и многим другим. Любой выдающийся ход сюжета может выступать не только как содержание (предикация) и не только как элементарное текстообразующее средство, но и как метасвязка. А.В. Федоров пишет о "Братьях Карамазовых": "Спор Ивана и Алеши запоминается, и впечатление от него продолжает действовать до конца романа, делая невозможной однозначность ответа на поднятые вопросы" [Федоров 1977:104]. Иначе говоря, метасвязка + "неоднозначность ответов" является инобытием текстообразующего средства -сюжетного хода "спор двух несходных братьев". Не только события сюжета, но и персонажи оказываются перевоплощенными метасвязками и участвуют в формировании динамических схем действования реципиента [ Morrow 1985]. Пейзаж также несет в себе метасвязки, например "туманность Петербурга", "дымность и мутность Петербурга" [Соловьев 1979:158-168]. Некоторые национальные особенности того или иного народа также выступают не столько как национальные смыслы или национальные текстообразующие средства, сколько как метасвязки, причем это иногда специально поддерживается и развивается в той или иной национальной культуре. Мера категоризации, которую мы видим в метасмыслах, метасредствах и метасвязках, не является предельной, хотя в позитивизме постоянно "ведется борьба" за то, чтобы где-то поставить точку при укрупнении категорий. Б. Кроче [Кроче 1920: I :99] предлагает изгнать из науки категории такого рода, как "печальное", "возвышенное", "элегическое". Тем более это относится к категориям "красота", "гармония", "безобразное". Между тем этот уровень категоризации занимает необходимое место в субстанциальной стороне понимания; он представлен метаметаединицами, перевыражающими и обобщающими "единство свойств исследуемой предметной области [Карпович 1984:92]. Сюда относятся художественная идея, жанр, мера креативности, мера художественности, мера прогрессивности, социальный смысл большого текста, соответствие текста пониманию по типам (для семантизирующего, для когнитивного, для распредмечивающего), оригинальность, смена жанра, нормальность текста по критерию выбора единиц [ Dijk , Kintsch 1983], тенденция построения художественных направлений. В последнем случае метаметаединица возникает из рефлексии над той рефлексией, которая давала в своих организованностях метаединицы. Сюрреалистическая тенденция восходит к метафоризации и иронизации как метасредствам и метасвязкам. Единство рефлексии с категоризацией и категоризации с рефлексией составляет необходимый элемент субстанциальной стороны понимания вообще. Высшие степени категоризации - тема и идея. Тема - категоризация содержаний (предикаций в рамках пропозициональных структур). Тема организует процесс когнитивного понимания и те моменты распредмечивающего понимания, которые базируются на процессе когнитивного понимания. Дети 9-10 лет, способные идентифицировать тему, лучше понимают повествование, описание и пр. [ Ehrlich 1985]. Функция темы - дистрибуция информации [ Szegedy - Marszak 1980]. Художественная идея - в основном то, что усматривает реципиент в том случае, когда это происходит в соответствии с программой продуцента. Наборы метаединиц должны быть достаточны для художественной идеи даже количественно: если набор меньше, то получается не художественная идея, а мотив . Вместе с тем художественная идея может быть в большом тексте не единственной. П.В. Палиевский [Палиевский 1978] отметил в "Мастере и Маргарите" одну более дробную художественную идею: Воланд и компания ходят крушить только то, что подгнило, дало трещинку - хотя бы маленькую. Идея: подгнившее крушит себя, в сущности, само. Такова "абсурдность", имеющая большой разброс импликаций, например: "ненаходимость смысла", "ненаходимость смысла деятельности субъекта". Варианты этой художественной идеи в трактовке разных писателей могут быть сходны с разными типами метаединиц [ Pavis 1980:17-18]. Так, с метасмыслом сходен вариант Ионеско: ничему от мира, текста, театра не научишься. С метасредством сходен вариант Беккета: структура текста как перевыражение хаотической реальности. С метасвязкой сходен вариант Дюрренматта: посмотрите на дурной мир в этом сатирическом абсурде. Добавим к этому, что в текстах пьес Мрожека можно найти все три позиции. По существующей традиции усмотрение художественной идеи целого произведения или его дроби относят к компетенции литературоведения. В реальном бытовании отечественных учебных заведений это приводит к тому, что в одних случаях художественную идею смешивают с какими-то проявлениями общественно-политических воззрений писателя как исторического лица, в других - придумывают художественную идею на базе эпифеноменальных псевдорефлективных процедур, в третьих - просто повторяют то, что сказано про художественную идею в учебнике. Во всех этих случаях усмотрение художественной идеи подменяется псевдоусмотрением уже в силу того, что действование реципиента подменяется самотечными психическими процедурами . Последние отличаются от действия тем, что в их развертывании не происходит действительного изменения познавательного материала субъектом, нет ориентированности на действительно социально-адекватные нормативы, нет рефлексии, фиксируемой (объективируемой) хотя бы в поясе мыследействования. Художественная идея есть внутренняя сторона совокупного художественного образа, представленного художественным текстом. Поэтому ее усмотрение предполагает действование во всех трех действительностях (= логических пространствах развертывания мыследеятельности человека). Если фиксация рефлексии происходит только в одном из поясов СМД, усмотрение художественной идеи оказывается дефектным, т.е. текст мало развивается и просвещает реципиента. Наиболее типичны следующие случаи дефектности: Рефлексия фиксируется только в поясе мыследействования. Реципиент склонен верить в то, что он видит "жизненную правду", которая и представляется ему художественной идеей. Из рефлективной реальности обыденного опыта извлекаются следы житейских представлений, возникает связка новых представлений с уже наличными. Например, Чехов пишет в рассказе "Человек в футляре": "Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, может быть, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было". Из рефлективной реальности некоего реципиента выплывает представление о ныне здравствующем пожилом родственнике, любящем порассказать, как хорошо всем было при товарище Сталине. Реципиент полагает, что он идею уже понял. Вместо того чтобы дальше разворачивать действия в рефлективной позиции (т.е. поставить себя хотя бы перед вопросом "Я понял, но что же я понял?"), он делает скачок к эпифеноменальной процедуре и "обобщает": "Идея в том, что всегда были ретрограды, а также в том, что ретроградом быть нехорошо". Эту тощую абстракцию и принимают нередко за художественную идею, тем более что в рамках самой абстракции нет ничего неистинного. Когда школьный учитель-филолог поддерживает такое "понимание" художественной идеи гениального текста русского классика, он делает нечто ничуть не лучшее, чем разрушение памятника культуры, но на это редко обращают внимание. Рефлексия фиксируется только в поясе мысли-коммуникации. Реципиент часто утешает себя в этом случае тем, что он, в отличие от случая (1), действует не как обыватель, отождествляющий художественную реальность с реальной действительностью, а как своего рода "лингвист", как будто даже распредмечивающий средства и метасредства текста для получения смыслов и метасмыслов. Однако и здесь нет усмотрения художественной идеи. Так, Чехов пишет далее: "И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь". Реципиент с упоением обнаруживает метафору и приходит к выводу, что "футляр" ("футлярность", по изящному определению З. Паперного) - это и есть иносказательное имя для запретительности. Отсюда - другой тип скачка к эпифеноменальной процедуре, которая опять дает тощую абстракцию типа "Всегда есть люди, которым только дай - все запретят" и самоотчет о своей рефлексии: "Я это понял из метафоры". Если в случае (1) бедность фиксаций рефлексии сопряжена с бездуховным единообразием псевдопонимания, то в случае (2) псевдопонимание базируется на пустых разговорах о "хорошем языке", "силе метафор" и т.п. Пустые разговоры не противоречат истине, но к усмотрению художественной идеи не ведут: о том, что есть люди, любящие все запрещать, известно отнюдь не только из чеховской метафоры: большинство людей знает это и до встречи с текстом Чехова, и получается так, что текст Чехова вообще никакой идеи не несет. Усмотрение метафоры - это отнюдь не усмотрение художественной идеи: первое может совершаться автоматически, по готовому алгоритму, усмотрение же идеи - всегда серьезный акт мыследеятельности. Рефлексия фиксируется только в поясе невербального мышления, что при попытке определить художественную идею дает пустую декларативность ("Старая гимназия с ее мертвящей казенщиной - она…" и т.п., столь же новое, как и в случае (2)). Действительная ценность всего процесса чтения художественного произведения реализуется лишь тогда, когда фиксация рефлексии над опытом смысло- и формообразования происходит одновременно во всех трех поясах СМД. Художественная идея - и категоризация, и синтез всех рефлективных усилий и все пережитых переживаний, доступных читателю в процессе чтения художественного произведения. |
 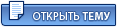 |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 9:03 |
Русская версия Invision Power Board
v2.1.7 © 2024 IPS, Inc.









